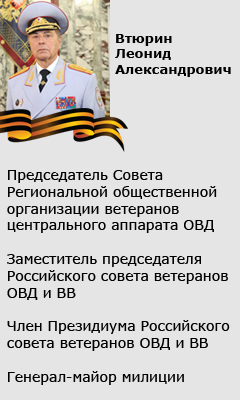Поэтическая рубрика
Евгений Анатольевич АРТЮХОВ родился в1950 году в подмосковном городе Реутово. Учился в Московском институте химического машиностроения, окончил Литературный институт им. А.М. Горького и Саратовское высшее военное командное училище МВД СССР им. Ф. Э. Дзержинского.
Сорок лет отслужил во внутренних войсках, полковник. Последняя должность – начальник отдела литературы журнала «На боевом посту». Ныне – обозреватель этого же отдела. Заслуженный работник культуры РФ. Лауреат премии МВД России (2007).
Участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, писал из многих «горячих точек». Награжден орденом Почета, медалью «За спасение погибавших», знаком «Почетный сотрудник МВД».
Автор двенадцати поэтических книг, двух томов избранного и четырёх сборников избранной лирики, гражданской лирики, баллад и историй, стихотворений нового века. Его произведения включены во многие коллективные сборники и антологии, в том числе «Русская поэзия. ХХ век» и «Русская поэзия. ХХI век».
Лауреат целого ряда литературных премий, в том числе имени А.С. Грибоедова (2009), К.М. Симонова (2000).
Член Союза писателей со времён СССР.
Живет в Москве.
Сорок лет отслужил во внутренних войсках, полковник. Последняя должность – начальник отдела литературы журнала «На боевом посту». Ныне – обозреватель этого же отдела. Заслуженный работник культуры РФ. Лауреат премии МВД России (2007).
Участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, писал из многих «горячих точек». Награжден орденом Почета, медалью «За спасение погибавших», знаком «Почетный сотрудник МВД».
Автор двенадцати поэтических книг, двух томов избранного и четырёх сборников избранной лирики, гражданской лирики, баллад и историй, стихотворений нового века. Его произведения включены во многие коллективные сборники и антологии, в том числе «Русская поэзия. ХХ век» и «Русская поэзия. ХХI век».
Лауреат целого ряда литературных премий, в том числе имени А.С. Грибоедова (2009), К.М. Симонова (2000).
Член Союза писателей со времён СССР.
Живет в Москве.
* * *
Что же я всё-таки сделал такого,
что рассказать будет внукам не стыдно?
Девушку как-то довёл до алькова, –
бабушкой стала – оно и обидно.
Буковки строил в газетные строки,
позже – в журнальные связывал гранки.
Всё прожелтело в короткие сроки, –
не разобрать ни с лица, ни с изнанки.
Дом свой лелеял и помнил, как святцы,
думал вкусить от полнеющей нивы.
Но разлетелись мои домочадцы, –
им неуютно, и мне сиротливо.
Что ж остаётся мне?
Тихое имя,
шрамы, морщины, родимые пятна?
Как в этот мир мы приходим нагими,
так и уходим нагими обратно.
Только душа не желает мириться
с данностью этой
и в детском неверье
вдруг из горсти выпускает синицу
и в журавлиные рядится перья.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА
Сменить бы пора,
да всё не соберусь:
она на стене прижилась.
На ней пламенеет Советский Союз –
шестая планетная часть.
Европа спокойные любит тона:
желта, голуба, зелена…
А наша алеет на все времена –
умытая кровью страна.
КОРОЛЁК
Этот плод рыжеватый,
подёрнутый словно ледком,
раскисает в тепле,
но становится ярче и слаще.
Он зовётся хурмою,
а если точней – корольком
и на царство посажен
базарною жизнью бурлящей.
Иль богат урожай,
или просто затарился склад,
но сегодня базар
можно спутать с хохляцким майданом:
в померанцевом море
барахтается виноград
и капуста с картошкою и баклажаном.
Ах, какой королёк!
Что за южные чудо-дары!
«То душа нашей Азии», -
как говорили когда-то
те, кто помнит ещё
многоцветье садов Бухары
и в Сухуми гранаты.
На ветках древесных гранаты.
Королёк, королёк…
Я качаю седой головой.
Где он, братский народ
и моя бескорыстная помощь?
Твой налёт восковой…
Мой наряд войсковой…
И чего только вдруг не припомнишь.
Зазывает торговка:
- Товар-то каков!
Подходи, покупай, и, клянусь,
завтра явишься снова!
«Кабы вовремя нам
подкупать корольков…»
Но мне плод вяжет рот,
и я больше ни слова.
ЖЕНЕ
Зачем ты мне доверилась, Ирина?
Со мною жизнь – ни сахар, ни малина,
нет ничего особого во мне.
Иных ни в чём я не опережаю
и, хоть не говорю, что хата с краю,
но не горю на жертвенном огне.
Заметно даже в пламени коротком,
что обделён массивным подбородком,
натянутой решительностью губ.
И в целом лик довольно приземлённый,
гуляет ветер над побитой кроной,
с тоской качая виртуальный чуб.
Придавлена армейскою фуражкой,
нельзя сказать, что жизнь досталась тяжкой,
но и простой её не назовёшь.
Солдатско-офицерские мученья –
тревоги, перемены, назначенья,
календари, истыканные сплошь.
Не лучшая, признаться, из сноровок -
вот так вести учёт командировок,
припоминая свой далёкий дом:
прокалывать портновскою иглою
разлуку, что укрылась под полою
или брезентом полевых хором.
Ты знаешь, не люблю я объяснений:
за что иной голубит день весенний,
другой осенним больше дорожит…
Я на веку немало предвидел,
но лишь родной порог меня магнитил.
И мне известно, что там за магнит.
НОГОТКИ
Как горят от жары золотые шары,
клонят головы тяжко к земле,
там, где флоксы, соцветья тая до поры,
их купают, белея во тьме.
Это тёща сажала на пару с женой,
это их красота разлита
то кольцом за крыльцом,
то дорожкой прямой
и ещё – от куста до куста.
Жизнь с годами придирчивей учит смотреть.
Мне спокойные ближе цвета.
Мало проку – синеть, лиловеть, пламенеть,
если в том не видна доброта.
Та, с какой на холодной заре
в октябре
через чёрную кашу тоски,
уцелев в безнадёжно наставшей поре,
смотрят в душу мою ноготки.
Рыже-солнечный цвет их, как лучик во мгле –
мол, держись, мужичок, молотком,
и пока мы с тобой, ты на этой земле
уцепись хоть одним ноготком.
ДОМИК
Домик с вензелем под крышей,
завитком на капителе,
он давным-давно не слышит,
да и видит еле-еле.
Так привычней и спокойней
возле слепеньких окошек
голубей кормить с ладоней,
а внизу – собак и кошек;
и поскрипывать в ступенях,
и позвякивать в фрамугах,
и на старческих коленях
ублажать бессчётных внуков.
Погромыхивая кротко
оторвавшимся железом,
им рассказывать в охотку
про французских живорезов:
как они отсюда ноги
уносили без оглядки.
И показывать ожоги
и щербины в старой кладке…
Домик с вензелем под крышей,
завитком на капителе,
сколько видел он и слышал,
перечувствовал на деле:
то дворянская усадьба,
то народный муравейник,
то какого-то Усамы
верное вложенье денег.
Этот домик, будь уверен,
не узнать через полгода,
ведь совсем иная «зелень»
прошуршала возле входа.
БОРОДИНСКОЕ ПОЛЕ
Трава как трава и холмы как холмы,
и только орлы золотые
косятся из порохом пахнущей тьмы,
на люд, на цветы полевые.
Железным сердцам их дороже венки
из бронзы разбитых орудий;
когтям их привычней штыки и клинки,
увы, непосильные людям.
Внизу балаганные трубы кричат,
гарцуют киношные кони,
мелькают венгерка с чужого плеча,
палаш, не привыкший к ладони.
Там детям подай скоморошьих потех,
а взрослым – веселья и зелий,
чтоб было с чем вспомнить погибших и тех,
кто тискал в Париже мамзелей.
Два века потомки поют им хвалы,
жгут свечи и, кланяясь низко,
следят, как победно возносят орлы
их славу под свод обелиска.
Печаль не бинтуется бронзою лент,
крестом не латается горе.
Не верь, что бывает красив монумент,
пометивший бранное поле.
Но если и нас не минует злой рок,
скорей совладаем с испугом,
взглянув на тяжёлый победный венок,
плывущий спасательным кругом.
ЗИФ
М. Молчанову
Ржавая цепь, шелушится зелёная краска,
спиц не хватает, навечно запнулся звонок.
Но всё равно – это детства любимая сказка –
мой двухколёсный, роднее родни, Горбунок.
Сколько дорог на твои намоталось колёса,
конь мой железный, ни разу не снявший седла.
Хлеба не просишь.Чуть масла, да разве насоса,
да для рогулек руля хоть немного тепла.
ЗИФ. Город Пенза. Продукт сорок пятого года.
Хлебные карточки, звёздочки свежих могил…
Всё для народа! Конечно, и он – для народа,
чтоб поскорее народ от войны укатил.
…Пусть говорят: инвалид бережёт инвалида,
строят беззлобно насмешки над нами в душе.
Как объяснить то, что в зеркальце заднего вида
вижу и то я, о чём и не помню уже.
ГУБНАЯ ГАРМОШКА
А.И. Грачёву
Брат из Германии привёз в подарок мне гармошку
и показал, как надо дуть, чтоб петь она могла.
Я стал осваивать её неспешно, понемножку,
садясь то около окна, то с краешка стола.
Как ни старался, но мотив не выводился чисто,
и брат частенько брал её из неумелых рук.
В квадратных дырочках в момент дыханье гармониста
преображалось в боевой, густой, скрипучий звук.
Я свой подарок дорогой показывал ребятам
и растолковывал не раз особенность игры.
Но даже лучшие друзья смотрели виновато
и говорили: «Не нужны нам марши немчуры».
И было нечем отвечать на это возраженье.
И потихонечку на нет сошёл мой юный пыл.
Гармошка года полтора лежала без движенья.
Потом – куда-то задевал, а после – позабыл.
СОЛДАТ ПОБЕДЫ
…И памятники сходят с пьедестала
Е. Винокуров
Лет пятьдесят или поболе,
в какой-то юбилейный год,
воздвигнут по народной воле,
солдат.
А где теперь народ?
И вот спустился с пьедестала
герой гвардейского полка:
неужто слава отсияла,
которой прочили века?
Громоздким стукотя металлом,
прошёлся вымершим селом
и никого не увидал он
ни за столом, ни под столом.
Чем в землю вглядывался строже,
землистей делалось чело,
окалина ползла по коже,
глаза посверкивали зло.
Чугунно грохотало сердце
в просторе брошенных полей:
затем ли гнал отсюда немца
он, крови не щадя своей?
Ну как могли заглохнуть дали,
перетерпевшие бои?
Неужто землю добивали
свои?
А где теперь свои?..
ДВОР
Мы жили все в своём дворе,
словно щенята в конуре:
на всех подстилочка одна
и миска - два вершка до дна,
и шерсть в репьях, и хвост в снегу…
Но цепь припомнить не могу.
Век разобрал – кого куда –
ни слуху-духу, ни следа.
Другим народом двор оброс:
в нём каждый сам себе барбос.
* * *
Олигарх дворец построил
с краю нищего посёлка,
за забором капитальным
спрятал неподъёмный труд.
А ведь в школе проходили:
Русь делилась на осколки
то князьями, то друзьями, -
а татары тут как тут.
Хоть края мне и знакомы,
но не мог не удивиться
жизни, сцепленной нелепо –
как сумелось, так срослось.
Мне она напоминала
растопыренную птицу –
где одно крыло усохло,
а другое – раздалось.
Как взлетишь, страна родная,
если ты сама похожа
на нелепое созданье
с торбой русского добра.
Машешь страшными крылами,
аж мороз дерёт по коже.
А доносится всё громче:
«…и ни пуха, ни пера!»
* * *
Он в Чечне не выстрелил ни разу, –
“духи” заминировали трассу.
Громыхнул фугас под днищем ЗИЛа.
Лишь его судьба и пощадила.
Нет руки, не слушаются ноги.
И медаль Суворова в итоге.
Он не плачет по ночам в подушку,
не клянёт неверную подружку,
он глядит застывшими глазами
в потолок, нависший небесами.
Из него ни снег, ни дождь не сыплет, –
он до дна солдатской болью выпит,
знают о которой мать седая,
да хирург, да Дева Пресвятая.
ШИПОВНИК
Ничего на даче не растёт,
разве что шиповник вдоль забора.
Этот роет глину, словно крот,
без воды, подкормки и призора.
Не однажды я его рубил,
чтобы впредь не заглушал малину.
Но он выживал и в меру сил
выпускал зелёную лавину.
Я рубил, а он меня колол;
жёг его, а он, стерпев все муки,
мне в глаза упрямым цветом цвёл,
веря, что не все так близоруки.
КОЛОМЕНСКИЙ ДУБ
Лицом на царские палаты
и Аввакумов злой острог
стоит дубочек в три обхвата,
Донского помнящий дубок.
Уже замшел, как перестарок,
и лысоват, и шишковат.
Но лист его, как прежде, ярок,
узорчат, глянцев, узловат.
Он молодую душит поросль
железной хваткою корней.
Чихать ему на метропоезд,
бегущий ниткою огней.
Он здесь стоит, как древний витязь,
чугунной цепью обнесён,
а вы, проезжие, дивитесь,
как складен он и крепок он;
как возвышается над всеми,
что часом позже проросли,
его непорченое семя –
плод неотравленной земли.
А всё что дальше – скупо, хило,
невзрачно, будто у людей,
которых в тридцать ждёт могила
с венком безвременья на ней.
Казалось бы, одна землица
и те же соки у земли,
да не дано иным прижиться,
восстав из праха и пыли,
поднять раскидистую крону,
где крупно жёлуди висят,
как недозрелые лимоны
иль лампы ватт по шестьдесят.
СОН
Снится мне сон: на себя не похож,
царским солдатом
я мужиков вывожу на правёж
в девятьсот пятом:
- Что ж вы спалили помещичий дом,
строенный вами?
Или не знали, как учат кнутом
и батогами?
- Жизнь, - говорят, - довела до греха:
глохнем и слепнем.
Вот и пускаем порой петуха
с огненным гребнем.
- Ну так открыли бы лучше ДК
в барском именье.
Жечь да крушить, да валять дурака –
много ль уменья?
Что я несу, и не ведаю сам, -
в шапке опилки.
Только запало, гляжу, мужикам,
чешут затылки.
- Да, - говорят, - тяжело без ДК –
негде собраться
фильм посмотреть, или дёрнуть пивка,
или на танцы.
Погорячились. Простил бы ты нам.
Вышло не кстати…
И побрели осквернять Божий храм,
а не взрывати.
* * *
Провожали солдата в последний окоп.
укрывали родимой землёй…
Только тесен ему военкомовский гроб,
непригож отведённый постой.
Не с того, что земля холодна и сыра,
глубока беспросветная ночь,
а с того, что, где нет ни кола ни двора,
он оставил супругу и дочь.
Не взяла его душу чеченская сталь,
и теперь она рвётся на свет,
где к подушке казённой приткнута медаль
и в муаровой ленте портрет.
Расступитесь, позвольте, коль хочется ей,
лёгкой, словно кадильный дымок,
задержаться среди молчаливых друзей,
постоять возле дочки чуток;
удивиться на вдовий закушенный рот,
на елей, что при жизни не льют, -
пока, словно пичугу, её не вспугнёт
троекратный прощальный салют.
МАЙ
Усердствует лук
и морковь распускает хвосты,
в приблудной малине
легко обозначилась завязь.
И я на гряде
от своей городской слепоты
не без удовольствия
освобождаюсь.
Копаю, рыхлю,
сыплю торф, и золу, и песок.
Чумазый, в осклизлой плащёвке,
окутанной вонью.
А корни, как шнур телефонный,
ведут в бугорок,
и не оборвёшь
эту связь
меж землей и ладонью.
ВНУЧКА
Мне дочка показала из окна
два дня назад родившуюся дочку.
Я дедом стал и бабушкой жена
благодаря вот этому комочку.
Когда мы принесли его домой
и столик передвинули под люстру,
и наклонились доброю стеной,
и нежно развернули, как капусту, -
лежал пред нами ангел на снегу,
чуть розовело крошечное тело.
И я сказал приветливо: «Агу!»
Всё остальное как-то отлетело.
ОТСТАВНИК
Ю.В. Дурневу
Вот и дослужился до изгнанья:
пенсия – какое ж торжество?
Никогда полковник состраданья
не искал. Оно – не для него.
Он ещё бодрится, молодится
и порой заглядывает в шкаф,
где, как конь, мундир его томится
в самых неказистых стременах.
Так – рядком металл, без всякой пробы –
в общем-то безродная латунь –
за лишенья, тяготы, хворобы,
за башку седую, словно лунь.
И за лямку, что тянул годами,
службе – не себе – принадлежа:
не роптал, терпел, скрипел зубами,
был отставлен злыми временами
и поставлен в шаге от бомжа.
* * *
На нищей пенсии, признаться,
не просидишь.
От злых забот
я начал интересоваться,
чем отставной живёт народ.
И получалось – чуть не скопом,
чуть ли не все до одного,
знакомцы шли в охрану ЧОПов
и всяких-разных ООО.
По их стопам, само собою,
мог запросто пойти и я:
дежуришь день, гуляешь трое.
Да больно не люблю жулья.
Я знаю воинский порядок,
он нужен мне, как кислород…
А охранять воздушный замок
в свой час архангел призовёт.
Что же я всё-таки сделал такого,
что рассказать будет внукам не стыдно?
Девушку как-то довёл до алькова, –
бабушкой стала – оно и обидно.
Буковки строил в газетные строки,
позже – в журнальные связывал гранки.
Всё прожелтело в короткие сроки, –
не разобрать ни с лица, ни с изнанки.
Дом свой лелеял и помнил, как святцы,
думал вкусить от полнеющей нивы.
Но разлетелись мои домочадцы, –
им неуютно, и мне сиротливо.
Что ж остаётся мне?
Тихое имя,
шрамы, морщины, родимые пятна?
Как в этот мир мы приходим нагими,
так и уходим нагими обратно.
Только душа не желает мириться
с данностью этой
и в детском неверье
вдруг из горсти выпускает синицу
и в журавлиные рядится перья.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА
Сменить бы пора,
да всё не соберусь:
она на стене прижилась.
На ней пламенеет Советский Союз –
шестая планетная часть.
Европа спокойные любит тона:
желта, голуба, зелена…
А наша алеет на все времена –
умытая кровью страна.
КОРОЛЁК
Этот плод рыжеватый,
подёрнутый словно ледком,
раскисает в тепле,
но становится ярче и слаще.
Он зовётся хурмою,
а если точней – корольком
и на царство посажен
базарною жизнью бурлящей.
Иль богат урожай,
или просто затарился склад,
но сегодня базар
можно спутать с хохляцким майданом:
в померанцевом море
барахтается виноград
и капуста с картошкою и баклажаном.
Ах, какой королёк!
Что за южные чудо-дары!
«То душа нашей Азии», -
как говорили когда-то
те, кто помнит ещё
многоцветье садов Бухары
и в Сухуми гранаты.
На ветках древесных гранаты.
Королёк, королёк…
Я качаю седой головой.
Где он, братский народ
и моя бескорыстная помощь?
Твой налёт восковой…
Мой наряд войсковой…
И чего только вдруг не припомнишь.
Зазывает торговка:
- Товар-то каков!
Подходи, покупай, и, клянусь,
завтра явишься снова!
«Кабы вовремя нам
подкупать корольков…»
Но мне плод вяжет рот,
и я больше ни слова.
ЖЕНЕ
Зачем ты мне доверилась, Ирина?
Со мною жизнь – ни сахар, ни малина,
нет ничего особого во мне.
Иных ни в чём я не опережаю
и, хоть не говорю, что хата с краю,
но не горю на жертвенном огне.
Заметно даже в пламени коротком,
что обделён массивным подбородком,
натянутой решительностью губ.
И в целом лик довольно приземлённый,
гуляет ветер над побитой кроной,
с тоской качая виртуальный чуб.
Придавлена армейскою фуражкой,
нельзя сказать, что жизнь досталась тяжкой,
но и простой её не назовёшь.
Солдатско-офицерские мученья –
тревоги, перемены, назначенья,
календари, истыканные сплошь.
Не лучшая, признаться, из сноровок -
вот так вести учёт командировок,
припоминая свой далёкий дом:
прокалывать портновскою иглою
разлуку, что укрылась под полою
или брезентом полевых хором.
Ты знаешь, не люблю я объяснений:
за что иной голубит день весенний,
другой осенним больше дорожит…
Я на веку немало предвидел,
но лишь родной порог меня магнитил.
И мне известно, что там за магнит.
НОГОТКИ
Как горят от жары золотые шары,
клонят головы тяжко к земле,
там, где флоксы, соцветья тая до поры,
их купают, белея во тьме.
Это тёща сажала на пару с женой,
это их красота разлита
то кольцом за крыльцом,
то дорожкой прямой
и ещё – от куста до куста.
Жизнь с годами придирчивей учит смотреть.
Мне спокойные ближе цвета.
Мало проку – синеть, лиловеть, пламенеть,
если в том не видна доброта.
Та, с какой на холодной заре
в октябре
через чёрную кашу тоски,
уцелев в безнадёжно наставшей поре,
смотрят в душу мою ноготки.
Рыже-солнечный цвет их, как лучик во мгле –
мол, держись, мужичок, молотком,
и пока мы с тобой, ты на этой земле
уцепись хоть одним ноготком.
ДОМИК
Домик с вензелем под крышей,
завитком на капителе,
он давным-давно не слышит,
да и видит еле-еле.
Так привычней и спокойней
возле слепеньких окошек
голубей кормить с ладоней,
а внизу – собак и кошек;
и поскрипывать в ступенях,
и позвякивать в фрамугах,
и на старческих коленях
ублажать бессчётных внуков.
Погромыхивая кротко
оторвавшимся железом,
им рассказывать в охотку
про французских живорезов:
как они отсюда ноги
уносили без оглядки.
И показывать ожоги
и щербины в старой кладке…
Домик с вензелем под крышей,
завитком на капителе,
сколько видел он и слышал,
перечувствовал на деле:
то дворянская усадьба,
то народный муравейник,
то какого-то Усамы
верное вложенье денег.
Этот домик, будь уверен,
не узнать через полгода,
ведь совсем иная «зелень»
прошуршала возле входа.
БОРОДИНСКОЕ ПОЛЕ
Трава как трава и холмы как холмы,
и только орлы золотые
косятся из порохом пахнущей тьмы,
на люд, на цветы полевые.
Железным сердцам их дороже венки
из бронзы разбитых орудий;
когтям их привычней штыки и клинки,
увы, непосильные людям.
Внизу балаганные трубы кричат,
гарцуют киношные кони,
мелькают венгерка с чужого плеча,
палаш, не привыкший к ладони.
Там детям подай скоморошьих потех,
а взрослым – веселья и зелий,
чтоб было с чем вспомнить погибших и тех,
кто тискал в Париже мамзелей.
Два века потомки поют им хвалы,
жгут свечи и, кланяясь низко,
следят, как победно возносят орлы
их славу под свод обелиска.
Печаль не бинтуется бронзою лент,
крестом не латается горе.
Не верь, что бывает красив монумент,
пометивший бранное поле.
Но если и нас не минует злой рок,
скорей совладаем с испугом,
взглянув на тяжёлый победный венок,
плывущий спасательным кругом.
ЗИФ
М. Молчанову
Ржавая цепь, шелушится зелёная краска,
спиц не хватает, навечно запнулся звонок.
Но всё равно – это детства любимая сказка –
мой двухколёсный, роднее родни, Горбунок.
Сколько дорог на твои намоталось колёса,
конь мой железный, ни разу не снявший седла.
Хлеба не просишь.Чуть масла, да разве насоса,
да для рогулек руля хоть немного тепла.
ЗИФ. Город Пенза. Продукт сорок пятого года.
Хлебные карточки, звёздочки свежих могил…
Всё для народа! Конечно, и он – для народа,
чтоб поскорее народ от войны укатил.
…Пусть говорят: инвалид бережёт инвалида,
строят беззлобно насмешки над нами в душе.
Как объяснить то, что в зеркальце заднего вида
вижу и то я, о чём и не помню уже.
ГУБНАЯ ГАРМОШКА
А.И. Грачёву
Брат из Германии привёз в подарок мне гармошку
и показал, как надо дуть, чтоб петь она могла.
Я стал осваивать её неспешно, понемножку,
садясь то около окна, то с краешка стола.
Как ни старался, но мотив не выводился чисто,
и брат частенько брал её из неумелых рук.
В квадратных дырочках в момент дыханье гармониста
преображалось в боевой, густой, скрипучий звук.
Я свой подарок дорогой показывал ребятам
и растолковывал не раз особенность игры.
Но даже лучшие друзья смотрели виновато
и говорили: «Не нужны нам марши немчуры».
И было нечем отвечать на это возраженье.
И потихонечку на нет сошёл мой юный пыл.
Гармошка года полтора лежала без движенья.
Потом – куда-то задевал, а после – позабыл.
СОЛДАТ ПОБЕДЫ
…И памятники сходят с пьедестала
Е. Винокуров
Лет пятьдесят или поболе,
в какой-то юбилейный год,
воздвигнут по народной воле,
солдат.
А где теперь народ?
И вот спустился с пьедестала
герой гвардейского полка:
неужто слава отсияла,
которой прочили века?
Громоздким стукотя металлом,
прошёлся вымершим селом
и никого не увидал он
ни за столом, ни под столом.
Чем в землю вглядывался строже,
землистей делалось чело,
окалина ползла по коже,
глаза посверкивали зло.
Чугунно грохотало сердце
в просторе брошенных полей:
затем ли гнал отсюда немца
он, крови не щадя своей?
Ну как могли заглохнуть дали,
перетерпевшие бои?
Неужто землю добивали
свои?
А где теперь свои?..
ДВОР
Мы жили все в своём дворе,
словно щенята в конуре:
на всех подстилочка одна
и миска - два вершка до дна,
и шерсть в репьях, и хвост в снегу…
Но цепь припомнить не могу.
Век разобрал – кого куда –
ни слуху-духу, ни следа.
Другим народом двор оброс:
в нём каждый сам себе барбос.
* * *
Олигарх дворец построил
с краю нищего посёлка,
за забором капитальным
спрятал неподъёмный труд.
А ведь в школе проходили:
Русь делилась на осколки
то князьями, то друзьями, -
а татары тут как тут.
Хоть края мне и знакомы,
но не мог не удивиться
жизни, сцепленной нелепо –
как сумелось, так срослось.
Мне она напоминала
растопыренную птицу –
где одно крыло усохло,
а другое – раздалось.
Как взлетишь, страна родная,
если ты сама похожа
на нелепое созданье
с торбой русского добра.
Машешь страшными крылами,
аж мороз дерёт по коже.
А доносится всё громче:
«…и ни пуха, ни пера!»
* * *
Он в Чечне не выстрелил ни разу, –
“духи” заминировали трассу.
Громыхнул фугас под днищем ЗИЛа.
Лишь его судьба и пощадила.
Нет руки, не слушаются ноги.
И медаль Суворова в итоге.
Он не плачет по ночам в подушку,
не клянёт неверную подружку,
он глядит застывшими глазами
в потолок, нависший небесами.
Из него ни снег, ни дождь не сыплет, –
он до дна солдатской болью выпит,
знают о которой мать седая,
да хирург, да Дева Пресвятая.
ШИПОВНИК
Ничего на даче не растёт,
разве что шиповник вдоль забора.
Этот роет глину, словно крот,
без воды, подкормки и призора.
Не однажды я его рубил,
чтобы впредь не заглушал малину.
Но он выживал и в меру сил
выпускал зелёную лавину.
Я рубил, а он меня колол;
жёг его, а он, стерпев все муки,
мне в глаза упрямым цветом цвёл,
веря, что не все так близоруки.
КОЛОМЕНСКИЙ ДУБ
Лицом на царские палаты
и Аввакумов злой острог
стоит дубочек в три обхвата,
Донского помнящий дубок.
Уже замшел, как перестарок,
и лысоват, и шишковат.
Но лист его, как прежде, ярок,
узорчат, глянцев, узловат.
Он молодую душит поросль
железной хваткою корней.
Чихать ему на метропоезд,
бегущий ниткою огней.
Он здесь стоит, как древний витязь,
чугунной цепью обнесён,
а вы, проезжие, дивитесь,
как складен он и крепок он;
как возвышается над всеми,
что часом позже проросли,
его непорченое семя –
плод неотравленной земли.
А всё что дальше – скупо, хило,
невзрачно, будто у людей,
которых в тридцать ждёт могила
с венком безвременья на ней.
Казалось бы, одна землица
и те же соки у земли,
да не дано иным прижиться,
восстав из праха и пыли,
поднять раскидистую крону,
где крупно жёлуди висят,
как недозрелые лимоны
иль лампы ватт по шестьдесят.
СОН
Снится мне сон: на себя не похож,
царским солдатом
я мужиков вывожу на правёж
в девятьсот пятом:
- Что ж вы спалили помещичий дом,
строенный вами?
Или не знали, как учат кнутом
и батогами?
- Жизнь, - говорят, - довела до греха:
глохнем и слепнем.
Вот и пускаем порой петуха
с огненным гребнем.
- Ну так открыли бы лучше ДК
в барском именье.
Жечь да крушить, да валять дурака –
много ль уменья?
Что я несу, и не ведаю сам, -
в шапке опилки.
Только запало, гляжу, мужикам,
чешут затылки.
- Да, - говорят, - тяжело без ДК –
негде собраться
фильм посмотреть, или дёрнуть пивка,
или на танцы.
Погорячились. Простил бы ты нам.
Вышло не кстати…
И побрели осквернять Божий храм,
а не взрывати.
* * *
Провожали солдата в последний окоп.
укрывали родимой землёй…
Только тесен ему военкомовский гроб,
непригож отведённый постой.
Не с того, что земля холодна и сыра,
глубока беспросветная ночь,
а с того, что, где нет ни кола ни двора,
он оставил супругу и дочь.
Не взяла его душу чеченская сталь,
и теперь она рвётся на свет,
где к подушке казённой приткнута медаль
и в муаровой ленте портрет.
Расступитесь, позвольте, коль хочется ей,
лёгкой, словно кадильный дымок,
задержаться среди молчаливых друзей,
постоять возле дочки чуток;
удивиться на вдовий закушенный рот,
на елей, что при жизни не льют, -
пока, словно пичугу, её не вспугнёт
троекратный прощальный салют.
МАЙ
Усердствует лук
и морковь распускает хвосты,
в приблудной малине
легко обозначилась завязь.
И я на гряде
от своей городской слепоты
не без удовольствия
освобождаюсь.
Копаю, рыхлю,
сыплю торф, и золу, и песок.
Чумазый, в осклизлой плащёвке,
окутанной вонью.
А корни, как шнур телефонный,
ведут в бугорок,
и не оборвёшь
эту связь
меж землей и ладонью.
ВНУЧКА
Мне дочка показала из окна
два дня назад родившуюся дочку.
Я дедом стал и бабушкой жена
благодаря вот этому комочку.
Когда мы принесли его домой
и столик передвинули под люстру,
и наклонились доброю стеной,
и нежно развернули, как капусту, -
лежал пред нами ангел на снегу,
чуть розовело крошечное тело.
И я сказал приветливо: «Агу!»
Всё остальное как-то отлетело.
ОТСТАВНИК
Ю.В. Дурневу
Вот и дослужился до изгнанья:
пенсия – какое ж торжество?
Никогда полковник состраданья
не искал. Оно – не для него.
Он ещё бодрится, молодится
и порой заглядывает в шкаф,
где, как конь, мундир его томится
в самых неказистых стременах.
Так – рядком металл, без всякой пробы –
в общем-то безродная латунь –
за лишенья, тяготы, хворобы,
за башку седую, словно лунь.
И за лямку, что тянул годами,
службе – не себе – принадлежа:
не роптал, терпел, скрипел зубами,
был отставлен злыми временами
и поставлен в шаге от бомжа.
* * *
На нищей пенсии, признаться,
не просидишь.
От злых забот
я начал интересоваться,
чем отставной живёт народ.
И получалось – чуть не скопом,
чуть ли не все до одного,
знакомцы шли в охрану ЧОПов
и всяких-разных ООО.
По их стопам, само собою,
мог запросто пойти и я:
дежуришь день, гуляешь трое.
Да больно не люблю жулья.
Я знаю воинский порядок,
он нужен мне, как кислород…
А охранять воздушный замок
в свой час архангел призовёт.